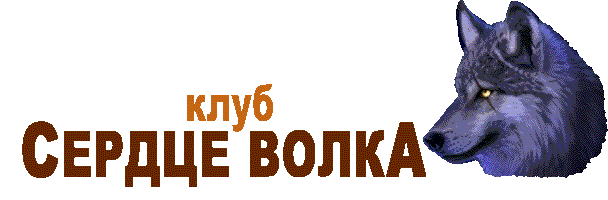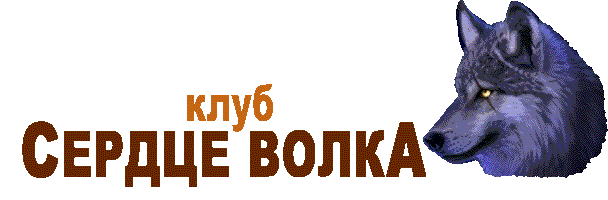Стихотворных тем у нас достаточно, а вот с прозой что-то читабельно маловато..
предлагаю первую ласточку... 
Добавлено (22.02.2008, 19:14)
---------------------------------------------
 пардон... придется урезать объем текста. но на днях обещаю вывеситься.
пардон... придется урезать объем текста. но на днях обещаю вывеситься.
Добавлено (25.02.2008, 07:07)
---------------------------------------------
http://planeta.rambler.ru/users/vetala.elena/
Предлогаю прочесть части с первой по шестую 
Добавлено (27.05.2008, 08:10)
---------------------------------------------
Сновидец.
Подобно мертвым рекам,
душа моя поныне
томится жгучим эхом
покинутой пустыни.
Душа, рабыня яви,
смутна и незнакома,
как женщина в оправе
оконного проема.
Ф.Г. Лорка
Он лежал в темноте и пытался уснуть.
Сны шептались по углам и молили о пощаде. Они боялись подойти к этому распростертому на жестком матрасе телу с влажными белками глаз, блестящими из-под щелей век.
Он изредка дышал, втягивая жадными хищными ноздрями прохладный весенний воздух, и втянутая тьма долго и панически билась в узкой теснине его легких. Меж узких деревянных ставен ночь пыталась всунуть свою ладонь, но когтистые пальцы звезд были не такими цепкими, как бывало раньше, и они срывались, и шипели от отчаяния усыпить его рассудок, от отчаяния заставить трусоватые тени по углам расступиться.
Он лежал, распростершись в продавленном мирке старой кровати с разболтанными шарнирами креплений, и особым комунально-скрипучим голосом старости. Если бы не эта кровать и все те воспоминания что она хранила, он не смог бы надеяться на сон. Но он точно знал, что все люди до него использовали ее, и она верно служила им, кому наградой, кому укрытием, кому точкой отсчета. Он пытался услышать в ее молчании предрекаемый сон. Но сны сторонились его темных алчных зрачков. Они предпочитали толпиться по углам или же лежать в полуночной пыли под его ложем, угрюмо подталкивая ему навстречу то одну, то другую стороны реальности.
Он тихо смеялся над самим собой и молил о сне. О храбром сне, с которым можно было бы схлестнуться в буйном броске, повалить его на хрустящую простыню, опечатать его собой, как горячим сургучом и, наконец, оставить острое напряжение плеч и запястий в его сладкой бархатистой глубине.
Комната, расчерченная наподобие арестантской робы светом фонарей, напоминала каждой деталью, что тут он тоже чужд, что он словно экспонат кунсткамеры, забытый в солнечной детской, слишком слаб в этом окружении ярких пшеничных однофактурных стен. Он смеялся и раскачивал своим беззвучным смехом женскую летнюю шляпку, которая была частью декора стены, и весела на гвозде рядом с репродукцией картины. Там пышногрудая корейская девушка, сидя в лодке, рассматривала свое отражение в воде… А, присмотревшись, он увидел и ее имя, и ее песню, которую она напевала в лозо-камышных прядях. Но стоило губам раскрыться навстречу видению, как было осмелевший сон опасливо попятился назад, и лодка оказалась на самом деле ткацким станком, а отражение у ног девушки рассеялось, став просто причудливым подолом платья, в котором уснул ветер.
Он подтянул слишком короткое, словно терновое одеяло, чувствуя, что замерзает в отблесках этого исчезнувшего отражения. Он подумал опять о сне. Сон все никак не мог набраться смелости, он еще только собирался подкрасться к его запястьям и холодным отрогам ключиц, там, где яростно кипела и билась о прочную преграду сосудов кровь.
Он представил себя совсем маленьким. Совсем маленьким, как мала горошина сна, которая должна была лежать где-то на полу. Он прикрыл свои глаза, и мир встрепенулся за шторами век, отпущенный на волю…
Свинцовая горошина сна, став ртутной, подкатилась к нему.
Добавлено (27.05.2008, 08:12)
---------------------------------------------
Он все так же лежал на твердом матрасе. И судя по размеру и некоторому ощущению себя, он опять был молод и полон сил. Но вокруг все так же горели поминальные огни ночных изголодавшихся до печали и горечи глаз тысяч созвездий. Он пах новым сном, и его плечи заиндевели в объятьях одинокого отдыха, а запястья заскорузли в жестких кандалах утреннего озноба. Он опять улыбался, и сны не приближались к нему. Словно смеясь, в самом уголке губ залегла смутная тень, превращая полуулыбку ожидания в жадный оскал. Пугаясь его мертвецки холодных губ и слов, что могут с них сорваться, сны как овцы угрюмо и траурно топтались где-то совсем рядом, понурив свои кудлатые головы в ароматную полынь мглы.
У изголовья раскачивался фонарик луны, прячась, то за углы строений, то за тонкую кисею собственного облачного одеяния.
Он потянулся всем телом. Разом, словно напрягся огромный канат, удерживающий парус его сознания. Сегодняшний ветер был попутным, и он почти смог догнать ускользающую в волнах плутонию. Он продумал этот сон и недаром взял серебро монет, для того чтобы сплести ей новое монисто, серебром покрыл струны своей арфы. Даже карандаш, каким накануне он писал заклятье на листе, вместо свинцового он заменил серебряным. Он уснул, и она вновь неслышно пришла на его зов. Как и впервые, как и множество раз до этого, он бросился вниз к ней, в глубину зеленоватого мрака, что порождал ее и его сны. Обдирая свои ладони об ракушечную обшивку корабля, к утру вернулся обратно, шипя от боли – соль разъедала руки, глаза, саму душу, особая рыбья заклятая соль, на которую на ином рынке могут обменять не один хороший дамасский клинок. Он возвращался на берег, чувствуя себя одновременно богачом и нищим, неся призрачный отпечаток прикосновения на своей руке и полные карманы жемчуга. Весь потусторонний мир моря и воздуха принадлежал ему, но его вновь необоримо влекло, как пса на цепи, на сушу, к красным алчным огням маяков, к их рынкам, и к тавернам, к плескающей в глубине кружки влаге. Он просыпался, скалясь от реальности, будто от зубной боли.
Мертвецы, на плечах которых он зиждился днем, тоже, казалось, лежат так же в своих узких прибежищах, и молят кого-то высоко сидящего о снах, о снах… Мучимые скукой, без возможности дышать, как сейчас дышит он, без возможности двинуть горячими сухими в бреду губами, шепча одну и ту же молитву, в надежде заклясть скрипучее колесо времени где-то у них над головой, силясь приподняться над узкими бортами уже пришедшей смерти.
Внемля их протяжным гулким молитвам в темноте, он был скован маленькой свинцовой силой горошины сна, что каталась где-то под кроватью в пыли.
Он шептал свое имя, чтобы не забыть, если сон вдруг рискнет к нему приблизиться и знать, что он обращается именно к нему. Он шептал всю тысячу и еще 23 скрытых своих имени. Он ласкал их своим бархатным небом и перекатывал их тишину сочной свежей коркой по холодным пальцам как крупные яркие дольки апельсина. Имена сверкали, призывая к своим пятам, покупая за дар послушать его всех слепых демонов, которые просыпаются между третьим и четвертым часом ночи. Он лежал в своей неплотно прикрытой келье, зная, что все, что видят белые блики на его коже, принадлежит только холодному нефу его собственного затылка.
Добавлено (27.05.2008, 08:13)
---------------------------------------------
Он слушал приглушенные звуки, пронзающие дом. Он слушал всю какофонию живых звуков и проглатывал их как вино, надеясь, что они оживят его кровь и спасут от самого себя. Он представлял, как курит. Как его грудина наполняется пламенем и пожаром, и дыхание становится видимым и неслышным в тлении ароматного табака. Он уже представлял особую сладость собственных имен пропитанных дымом и сквернословием пламени. Но это было все очень далеко.
Гораздо ближе были молитвы не упокоенных, спящих где-то в глубине его самого теней и знаков, которые все ворочались в склепе ребер, капилляров и сердцебиений не находя дороги наружу, а потому безумно вгрызаясь в окружающие податливые стенки его памяти.
Он пытался заснуть, но постоянно сам тревожил собственные глаза, заставлял вздрагивать темные обсидиановые стеклистые зрачки, принюхиваясь их темными ноздрями к сладковато-интимному запаху чужих снов. Они сочились сквозь стены, невесомые в потоке приглушенных звуков сплетаясь с его тишиной. Он жаждал сна всем изголодавшимся телом, бессмысленно в который раз закусывая губы, как в бешенстве собака бросается на свой хвост и все вертится и вертится волчком, пока пуля бешенства не повалит ее, и хлопья этого безумия не выступят из пасти клочками пены.
Приходил день, и новая память затопляла его побережье, принося новую воду и новый ветер, ракушки и зеленые водоросли, принося в каменных бутылках новости с давно сгинувших кораблей, он жил своей тихой жизнью, сплавляя по воде новые отчеты, посещая магазины, готовя еду, трясясь в общественном транспорте – к вечеру берег совершенно менял свои очертания. Однако с приближением ночи наступал отлив и скалы вечного желания опять обнажались навстречу луне. Здесь он вновь и вновь расставлял на нее сети.
Когда он родился, его глаза были небесно голубого цвета, словно само небо вдруг переполнившись, уронило несколько капель сини в его пустые глазницы. И восторгу не было предела, когда он смотрел этим небесным рыбьим взглядом на окружающих. Но тогда он был слишком еще мал. К его кровати тогда приносили апельсины и большие бумажные белые цветы. Приносили совершенно посторонние люди, но он всех их считал своими и улыбался, и тянул еще слабые свои пальцы. А его сны были по-настоящему цыганскими, горькими и вытянутыми как зернышко миндаля. Он помнил эти свои голубые собачьи глаза, глаза полные амфитаминовых запахов и спиртовых ознобов. Он помнил их вращение в собственных глазницах, так же верно, как и всеобщий восторг, когда еще нежный и бледно-розовый он открывал веки, так еще не похожие на крылья и пытался сфокусировать эти розовато-синие и желто-серые пятна их лиц.
Он был достаточно мал, чтобы не бояться, когда проснулся ночью в полной темноте. Число его лет как раз достигло трех вытянутых пальцев одной руки, и его ночной голос уже стал понятен людям окружавшим его. Он проснулся от необъяснимого тянущего ощущения в глубине глаз, нити боли прялись где-то прямо за глазницами и, свиваясь в пряные коконы в глубинах мозга, они как юная травка пробивались сквозь нежную непаханую ниву детского сознания, превращая его голову в огромный светящийся изнутри белесым отчаянием шар. Нити тянулись во всех направлениях, они пересекались, цеплялись друг за друга, но не спутывались и все стремились и стремились куда-то, в вечной жажде прирасти и остановиться. Он закричал – стыло и протяжно, не от страха, скорее от боли, что рождалась в этом вечном желании узнать и не останавливаться. Он заплакал в этой вечной темноте, роняя на ночную мягкую рубашку, истончающуюся синь собственных глаз.
Добавлено (27.05.2008, 08:15)
---------------------------------------------
Он плакал всю ночь, когда услышал голос, гонящий небесную синь. Всхлипы и тихий шепот бреда, разбудил взрослых… Тише, тише, малыш! – успокаивала мать, качая его на руках, крепко сжимая за глотку собственное недовольство полуночным плачем. Ее послушные мягкие руки, обнимали его прохладное детское тельце, и настраивали его на некий ритм, подтягивали колки на этом невидимом инструменте, очнувшемся в его голове, изматывали и заставляли звучать. Он все никак не мог успокоиться, он не мог уснуть. Тогда он впервые не смог уснуть.
Он тихо засмеялся, расставив силки на сон в кустах собственных детских воспоминаний, спрятавшись за их буйной полупервобытной хаотичностью, яркой, словно далекая бета Ганимеда. Сегодня мир вокруг него был расцвечен изнутри тысячами прядей казуальности, мириадами огней, что должны были вести его утлую лодочку человеческого рассудка, как ведут к дому кряжистые фигуры маяков полные плошек огня, заброшенные в самые далекие и опасные места морского движения. Сегодня сложив горстью ладонь, он мог превратить месяц в непотопляемый корабль и наполнить простыни его парусов ветрами дыхания города, что принюхивался к волшебству вокруг. Он мог, но не хотел поднимать и без того тяжелые занавеси век, до того как прозвучит третий звонок Оле Лукойе распустившего в сознании миллионов свой черно-красный зонт. Он глубоко вздохнул, но не стал переворачиваться с левого бока на спину, лишь неторопливо подтянул колени поближе к себе. Зубы громко клацнули в попытке поймать ускользающий образ и опять замерли за алой лентой рта.
В ту изматывающую первую ночь нити возможностей внутри него разрастались подобно пыльному грибу ядерного взрыва, опутывали небосвод так, что даже от матери сонно прижимавшей его к себе остались только руки, которые настойчиво пытались притянуть его кричащее существо к себе и не отпускать, не отпускать. Позже именно руки стали принадлежать этой странной жажде тактильности и человеческой кожи. Эти десять покорных и безжалостных кинжалов, что могли терзать ярящуюся плоть сновидения. Он превратил их в ловчую сеть, в капканы, в охотничьи ямы окружающего пространства.
В эту ночь его зрачки затянулись темной полыньей собственной души, становясь суккубными алчными прорезями, обратились сами в себя, и глубокая небесная синь сменилась теплой жидкой гречишной патокой. Как все удивлялись его глазам! Из небесно-голубого в теплый древесный цвет, да так мгновенно! Мать смеялась и указывала на отца: «Смотри, как он все же похож на тебя! Смотри, его глаза точь-в-точь как у твоего отца».
Он задышал глубже и открыл глаза, странные теплые глаза, в которых хотелось сидеть как в уютном кресле – возможно, сон еще собирался вернуться к нему, клюнув на искусно расставленную сеть прошлого. Он встал и спустил босоногие свои ступни на пол, коснулся пальцами ледяного лунного пола, смешал молоко ступней с белым светом бликов на изменившем цвет паркете. Встал, как дьявол, босым, встрепанным, горящим – потянулся. Сон затаился где-то внизу живота, катался куском мятой тряпицы внутри межреберья.
Узкое ложе разделено сном пополам, и самый край еще хранит его тепло. Жмурится огненное пропитанное злостью одеяло. Запах особый древесный, не знакомый, горячий, как его открывшиеся зрачки. Он щурится и неслышно прохаживается по комнате, наступая на квадраты света, не боясь порезаться о них чувствительной своей ступней. Он кружился в живом бессвязном вихре сам, становясь им. Но огонь движения не обжигал, он очень медленный и холодный, трепетный и тягучий. Он заставлял сети вокруг него шевелиться, превращая танцора в паука, сплетающего новый узор.
Он обрастал ночными тенями, и сам становился похожим на длинную мускусно пахнущую змею, свивался то кольцами, то просто тек своей мускулатурой в пространстве. Он был скорее приземист, но ночь прохладными очертаниями облекла его особой гибкостью и тонкостью, скрывая под доспехом образов трость его нежной палисандровой души, отороченную крыльями ресниц.
Он наступил на отражение окна на полу и надолго замер, рассматривая как гонимое фотонами проезжающего автомобиля очертание, перемещается под ним, заставляя его на миг поверить в то, что именно это окно и является реальным.
Добавлено (27.05.2008, 08:16)
---------------------------------------------
Он не оборачивался на сон. Он уже не ждал его. Босые ступни согрелись шагом, и теперь все тело ладно настроилось, как кошачьи уши на ритмы ночи. Он опять беззвучно смеялся над собой и приоткрывал окно, чтобы ночь ворвалась с жадностью полнолунного милиционера увидевшего пьяного и зазевавшегося путника, в ореоле своих запахов и звуков внутрь него. Он принимает ее и слышит как внизу что-то грустно и непрерывно бряцает как колодезный журавль своей длинной цепью. Он доставал маленький огонек, прикрывая его ладонями, сладостно входил в его истлевающие крылья туго свернутыми листьями табака и обволакивал собственным дыханием от нечаянных глаз, от ладоней ветра. Он вдыхал тьму как кокаин тонкими звездными дорожками, что разбросаны теперь по обе стороны оконного проема и надеялся, что мгла эта останется в его глубинных омутах мозга, раствориться в его желудочках и темно-синей крови на венах запястий. Он долго как трепетный любовник приникал к ночи губами в никотиновой горечи, в ее беззлобной животной страсти курить вместе с ним. Он чувствовал себя счастливым, не смотря на то, что сны, опять бежали его.
Сны бежали, а бред оставался.
Он никому не говорит, что умеет колдовать. Что именно от того ему и не спиться, что это голос крови заставляет его мучиться и метаться на одинокой холодной постели в надежде призвать к своим запястьям сон. Он – сновидец.
Сегодня он и сам не уверен, что умеет колдовать. Что такие теплые глаза могут выпивать сны досуха, что в них скрыта древняя хищность и алчность до жизни, что все паутинки жилок внутри его белков, всего на всего, пути по которым вольно или невольно путешествуют целые цивилизации эритроцитов, что он сам так велик и титанически огромен, что не может справиться даже с самим собой. Не может заставить себя уснуть, когда в голове не остается не одной сиюминутной мысли и только острым лезвием Оккама взмахивает в пустоте рассудок. Он не может сознаться, что весь сновидческий дар он готов сменять лишь на одну эгоистичную возможность прикосновения.
Сны боятся его. Всякие сны: собственные и чужие, старые и позабытые, новые и еще только снящиеся, те сны, которые будут… бояться, но словно завороженные песней все равно идут выпить его молчаливого ожидания.
Когда он смеживает веки, то снова и снова видит огромное вращающиеся в пустоте колесо. А потом колесо становиться летящей птицей, птица распадается на тысячи тонких прядей и опадает в туман. Туман редеет, становясь зеленовато-изумрудным небом, пронизанным бесконечным количеством влажных и низких как глаза южанок звезд. И каждая звезда тянет к нему маленькие свои жадные лучики, но стоит на нее посмотреть, как тут же отдергивает их назад. Звезды это пути к снам. Так говорит внутри него странное чутье, которое утром указывает на изысканно задрапированные плотью реальности, словно червячки в яблоках, лазейки, по которым нельзя ходить, когда ты не спишь.
Он подходит к окну, опирается руками о раму, выглядывает наружу и вниз, там, где гудят еще невидимые машины. Подставляет свое лицо навстречу этим новым звукам, которые затуманивают и обтекают все. Даже псы не видят и не узнают его, если ему доведется встретиться с ними на улице. Здесь в городе, они оглушены звуками и запахами… Но это даже хорошо, ему не приятно пристальное внимание собак, опасливо скалящих зубы. Домашним псам и не объяснить, что он родился таким, и его злоба, и жажда такая же часть этого мирового колеса, как и их мелкие проделки на хозяйской кухне.
Но все же собаки, ищут его, когда он оказывается в их досягаемости, и тогда он закрывает одну пару глаз, а другая неспешно следит за загривком осмелевшего животного, и его зрачки смеются как гиены, и все твердят вдогонку скулящей испуганной псине: голубые глаза собаки… голубые глаза…
Добавлено (27.05.2008, 08:17)
---------------------------------------------
У него нет слуг. Он сам себе слуга и хозяин. Его внутренность, весь свиток нервных окончаний, корпуса мышечных и скелетных архитектур, надежно скрепляет преданность одного другому. Тем крепче эта связь, чем ярче свет, что заставляет спрятаться и закрыться ночные его зрачки. Связь эта сродни женскому профилю, который он носит в памяти, является очень утонченной пыткой, пытаясь ограничить его извечную жажду, и заставляя ее тем самым полыхать еще сильнее.
Конечно, в абсолютной темноте собственного затылка, когда дверь притворена и нет досужих глаз, он распускает тугую шнуровку рассудочности и тогда стихия подобная самуму впрыскивается в его кровь и сны, словно завороженные движением дудочки факира змеиные языки и глаза тянутся к его пламени. Он сам не скажет, какого рода колдовство творил он в ту или иную ночь. Он не слышит ее вопросов своими эльфийскими ушами, он слушает лишь как стучит хронометр ее сердца сегодня, когда она вновь показывается шумящей купели мрака.
Возвращаясь по тропинке зари за петушиными криками к собственному стылому порогу, он неспешно растирает окаменевшие плечи, собирает по одному роящихся на предплечьях мурашей, опять курит. Словно завершая ту ночную серенаду, что стоила жизни еще паре наивных снов.
Он помнит, где-то есть воздыхатели, почитатели и расслабленные покорные поклонницы, которые изредка приходят молиться в пустые часовни перекрестков, когда он возиться окровавленными пальцами в ошметках очередного сна. В их же тонких изящных ладонях всегда зажаты какие-то бумажные листы, словно пропуск или путеводная нить. Он отсутствует в собственном храме, пыль и запустение венчают все его литургии, и это рождает сладость, что так приятна голодным диким снам, которых он ожидает во тьме, согревая собственным дыханием кремневые наконечники своих стрел. Каждый сон он ждет ее, чтобы убить, и никогда не может этого.
Черные косы и белые лики всех тех, кто беспокоит его натруженную за день душу, маячат как болотные огни в глубине зданий, в облетевших как палая листва витражах, осторожные и терпеливые ноги ступают без шороха по растрескавшимся плитам, уши настороженно внимают робкой тишине и собственному молчанью.
Луна словно пьяный бык шатается и скачет над его головой, потрясая своими семидневными, молодыми рогами, приглашая присоединиться к корриде со звездами. Сновидец внимательно наблюдает за ним, перебирая в постепенно остывающих ладонях карты созвездий, тасуя их словно для гадания. В реке, что протянулась над его головой, белой и недосягаемой крутится и вертится душистый венок северной короны, когда-то возложенный ему на голову рукой судьбы или же чувственности.
Как запах восковых свечей горячим парафином и тайной, покрывает его блестящие горячие глаза это ожидание. Змеиный мускус, блесна лунного ножа – рыбак ждет свою ночную удачу, ждет и его крючок.
Сновидец чище, чем сердце влюбленного и наивней самого отрешенного лунатика. Его глаза погружены в самую пучину смарагдового небосвода, и морское течение смывает с них печаль и горечь, заставляя воду стать соленой, а зрачки трепещущими.
Сегодня он приготовил все для обряда: и огонь, и воду, заплел колечками ветер, свил из русалочьего серебра леску, зажег фитили желаний в разверзнутых пастях маяков, чтобы не пугать темнотой плывущие мимо него на острых гранях волн тени и блики. Когда вокруг так много света, и так много движения, лучше оставаться неподвижным, ведь мимикрирующий узор на собственном лице может быть разрушен просто неосторожным движением тонких мимических мышц, а значит тотчас же поменяются и течения.
А течения будь они глубоководными и холодными как Лореляй или поверхностными и жаркими как Вакханка, требуют к своим капризам подобострастия и внимательности. Он растворился в собственных мыслях, разбросав по поверхности пространства руки, будто изможденный суетной смертной жизнью спаситель.
Глубоко, в подкожном холоде, в изматывающей жажде согреться, в желании пить новую сладкую влагу, в казематах чужого проклятья врезавшегося в кожу, он окоченел, стал просто отражением. Он привык верить в то, что его дневная жизнь, лишь отражение. Мастер отражаться и отбрасывать тени, он сам потерялся в своем лабиринте, судорожно сматывая клубок сна в надежде, что у входа сон выведет его в долгожданную реальность морфина. В лабиринтах морских карт время идет незаметно, превращаясь в линию обстоятельств, что петляет между мифическими островами и континентами.
Добавлено (27.05.2008, 08:19)
---------------------------------------------
Ветер кружит сарафанным подолом за окном. Зима. Все естество просится как замаявшийся пес по нужде. Капитальные стены вокруг, сложенные из стандартных до одури кирпичей, кажутся кармическими законами. Но все это только эмоции. Это все – только ощущения – шепчет он сам себе. Ты не можешь сдрейфить, тебе некуда дрейфовать в бесконечном, темном океане зимней ночи, он вновь сам сковал себя льдом в одном из фьордов, чтобы попробовать приковать ледяным прикосновением и ее сердце.
Сновидец опять шевелиться, разгоняя неосторожным движением пугливых ночных животных. Он становится на тонкую наледь, пытаясь подойти ближе к знакомому силуэту.
Сейчас все просто. Ему ничего не грозит. Разверзающаяся под ногами бездна – это просто очередной сон, от которого утром не остается даже воспоминаний. Движущаяся тьма, становится жаркой и прилипает к коже, горячее к холодному. Он дрожит всем телом, горло непроизвольно всхлипывает, раздавливая каблуком воли очередной полуночный стон. Спи.
Все рождается из тьмы, оплодотворенное светом. Мы тоже родились во тьме. До того, как развернуть свои чешуекрылые легкие, мы некоторое время жили во тьме и пропитались ею. Наша жизнь – тьма. Настоящая мгла, без границ затопляющая все вокруг, без ясно очерченных углов и плоскостей. Свободная и живая ночь.
Наледь скрипит под ногами, он, ступив на ее хрупкую поверхность, словно слепнет, тьма окутывает его плотным покрывалом, словно младенца. Он знает – ему не далеко. Меньше ста шагов. Он помнит, стоит протянуть руку и пройти эту сотню, он сможет ее коснуться. Но темнота ревнива и он полагается на слепое пятно тепла, что заставляет его навигацию сжаться и компасную стрелку повернуть в ином, чем указано природой направлении.
Сновидец ложится на тонкий лед, хоть сто метров не путь, но в полной темноте ощупью передвигаться привычней. Вечность этих ста шагов отдает привкусом новой соли.
В этом пути о слеп и одинок, этот путь он повторяет каждую ночь, меняя обстоятельства и время. Он пришел.
Первобытная Плутония пытливо смотрит на него, вмороженная в собственный лед, она даже не пытается убежать. У Сновидца даже мелькает мысль, что она намеренно спустилась по пояс в воду, когда поняла, что он хочет превратить пространство. Он изумленно топчется вокруг, словно восторженный малыш вокруг новогодней елки. Звезда смотрит ему прямо в глаза, тревожит душу, перебирая ее словно знаток-портной приглядывающий ткань. Сновидец ежится, переступает с ноги на ногу, но протянутая рука кажется, совершенно, чужой и не хочет слушаться, оттягивая возможность прикосновения.
Плутония улыбается. – Я лишь сон, - шепчет она, - я лишь сон, - и прикасается губами к протянутой ладони.
Нить сновидения рвется и ускользает. Проснувшись, сновидец в досаде вгрызается в подушку, его снова точит соль и время.